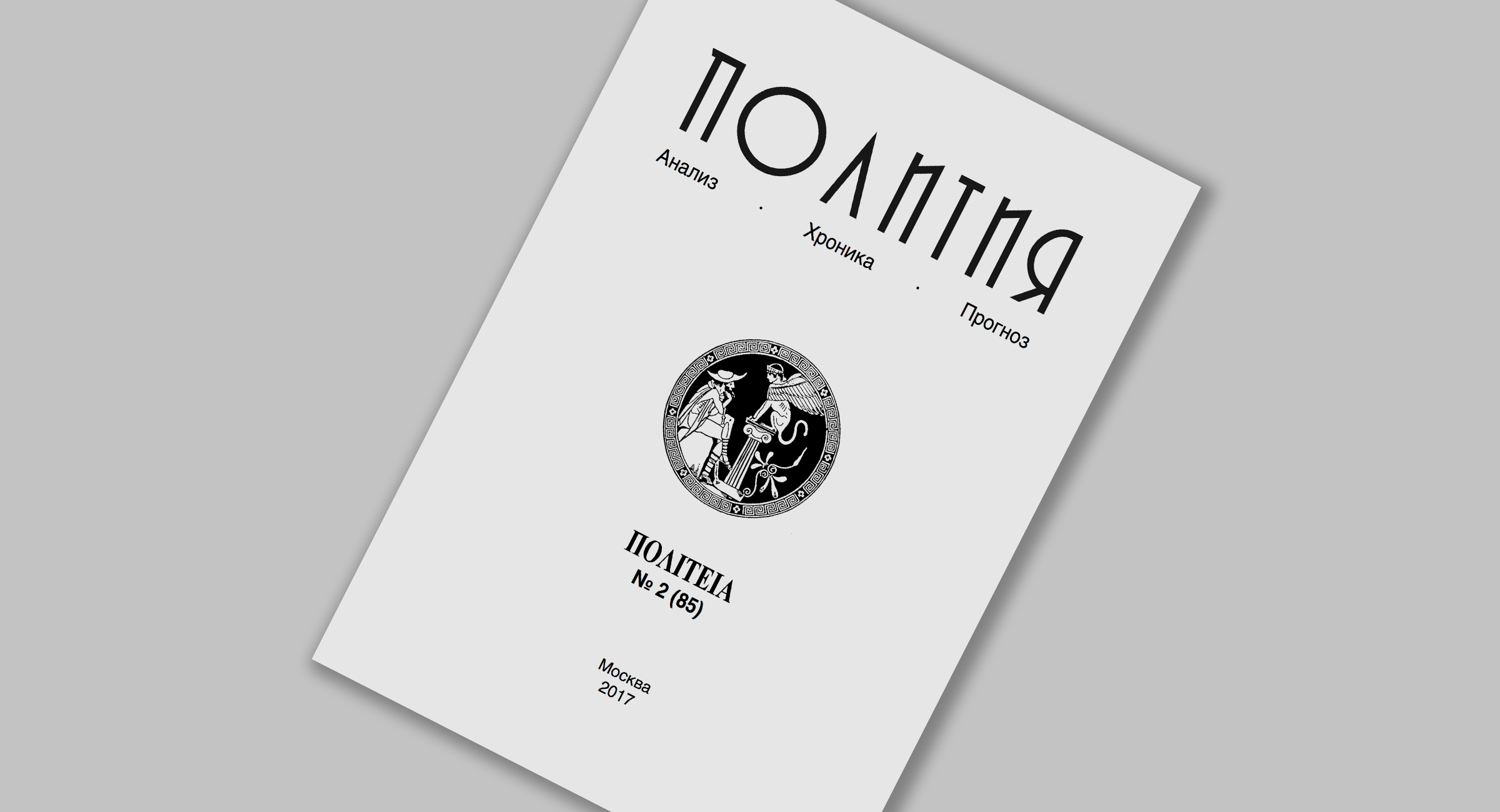ОУ приводит (с сокращениями) статью политолога, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Гельмана «Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских реформ», рассматривающую особенности развития и реформирования постсоветской Евразии.
В русском языке (как и в ряде других языков, от немецкого до финского) слово «политика» используется в двух значениях: (1) деятельность, связанная с борьбой за власть, и (2) набор мер, которые проводит правительство в различных сферах (социальная, внешняя, образовательная и иная политика). В английском языке, который является lingua franca современной науки, упомянутые понятия обозначаются разными словами — politics и policy соответственно. Как соотносятся между собой эти два измерения политики: борьба за достижение, осуществление и удержание власти (politics) и политический курс (policy)? Довольно часто борьба за власть мешает успешной реализации политического курса, и из-за этого планы тех, кто предлагает какие-либо реформы, в лучшем случае воплощаются лишь частично и/или с сильными искажениями, а в худшем — оборачиваются своей противоположностью. Причин тому немало — от «политических бизнес-циклов», препятствующих проведению реформ в предвыборные периоды, до идейного противостояния различных политических сил, чьи приоритеты сильно расходятся, а неспособность к выработке согласованной позиции блокирует любые изменения, а то и ведет к принятию решений, которые могут ухудшить ситуацию по сравнению с прежним status quo. Примеров тому несть числа в разных странах и в разные периоды времени. Поэтому неудивительно, что многие находящиеся у власти политики, да и специалисты-практики, занимающиеся выработкой и претворением в жизнь конкретных аспектов политического курса, легко могли бы подписаться под словами российского экономиста [Алексея Улюкаева]: «Основной вопрос всякой эволюции — ограничение власти: как сделать принятие решений компетентным, зависящим от знаний и опыта, а не от результатов голосования, как добиться „режима нераспространения“ политической сферы на иные сферы общественной жизни?»
На деле «режим нераспространения» если и устанавливается в тех политических и институциональных контекстах, где принятие решений не зависит от результатов голосования, то нечасто дает позитивные эффекты с точки зрения качества принимаемых решений, не говоря уже об их воплощении. Прежде всего это относится к авторитарным режимам, где результаты голосования не влияют напрямую на осуществление удержания власти. «Истории успеха» реформ политического курса в современных автократиях довольно редки. Более того, лидеры авторитарных режимов порой бывают даже заинтересованы в неэффективности проводимой ими policy как в средстве сохранения собственной власти, хотя гораздо чаще они все же стремятся к реализации политического курса, нацеленного на ускоренный и длительный экономический рост и успешное развитие своих государств. Да и в условиях демократии, если политики пытаются «изолировать» политический курс от политической борьбы, итоги реформ в тех или иных областях далеко не всегда соответствуют ожиданиям сторонников «режима нераспространения».
Неизбежное и неустранимое противоречие между politics и policy, которое отмечается многими специалистами, стимулирует поиск механизмов государственного управления, способных обеспечить высокое качество policy, которое не должно зависеть от характера и направленности politics. Подобные механизмы рассматриваются далее как «технократические» (в противовес «политическим», когда и politics, и принятие ключевых решений в рамках policy осуществляют одни и те же акторы). Задача настоящей работы — выявить возможности и ограничения технократических механизмов управления с точки зрения реализации политического курса и его реформирования в условиях постсоветской Евразии.
После распада СССР этот регион служил (да и сегодня отчасти служит) своего рода лабораторией трансформаций в различных сферах управления государством и экономикой. Эти трансформации происходили на фоне циклов режимных изменений от электоральных демократий до «гегемонистского» авторитаризма и принесли очень разные плоды как на уровне отдельных стран, так и на уровне отдельных policy areas. С точки зрения соотношения politics и policy в этих странах разворачивались противоречивые процессы. В России в 1990-х годах наблюдалась острая конкуренция между politics и policy, явно не способствовавшая успеху преобразований, а в 2000-е годы определенные подвижки в сфере policy были достигнуты на фоне постепенного упадка politics. «Изоляция» реформ от политической борьбы отнюдь не всегда благоприятствовала их реализации, а полученные de facto результаты политического курса порой мостили дорогу авторитаризму. В Грузии периода президентства Михаила Саакашвили ориентация лидеров страны на создание широкой политической коалиции в поддержку технократических реформ открыла возможность для успешного преобразования ряда аспектов policy, однако позднее реформы были частично повернуты вспять. В случае Украины policy в значительной мере оказалась заложницей турбулентных изменений в области politics, и на протяжении всего постсоветского периода в условиях «неопатримониальной демократии» реформы явно буксовали едва ли не по всем направлениям, демонстрируя неэффективность политических механизмов государственного управления.
Поиски ответа на вопрос, почему в одних случаях технократические рецепты срабатывают, а в других — нет, требуют углубленного анализа алгоритма действия технократических механизмов государственного управления и тех возможностей и ограничений, с которыми сталкиваются технократы, пытаясь провести те или иные реформы. В настоящей статье я постараюсь показать, что в условиях ориентации значительной части правящих элит на извлечение ренты попытки провести масштабные реформы и повысить качество государственного управления посредством технократических механизмов встречают сопротивление со стороны влиятельных вето-игроков — групп интересов и части бюрократии (порой вступающих в неформальные коалиции). В то же время «режим нераспространения» оставляет мало шансов на создание широких и устойчивых коалиций в поддержку преобразований. В связи с этим едва ли не единственным источником курса реформ оказываются персональные приоритеты высшего политического руководства, которых даже при самом благоприятном стечении обстоятельств недостаточно для достижения целей реформ, но которые вполне могут стать почти непреодолимым препятствием на их пути. Опыт реформ 1990–2010-х годов в постсоветских государствах позволяет проследить те факторы, которые препятствуют технократическим реформам политического курса в неблагоприятном политическом и институциональном контексте.
Технократическая ловушка: диктаторы, «визири» и «евнухи»
В технократических реформах политического курса нет ничего нового: исторически большинство преобразований — успешных и неудачных — в самых разных странах проводились как раз в условиях технократической модели. Политические лидеры, контролировавшие сферу politics (монархи и диктаторы всех мастей), под влиянием внешних и/или внутренних вызовов принимали решения о необходимости реформ, успех которых позволил бы им как минимум снизить потери и как максимум укрепить позиции — своих стран и свои собственные. Поскольку проведение реформ требует профессиональной квалификации, а их результаты непредсказуемы по определению, неудивительно, что роль реформаторов отводится чиновникам и/или специалистам, которые (1) обладают подобной квалификацией и на которых (2) можно списать неудачи реформ в случае неблагоприятного развития событий. Поэтому реформаторы, отвечающие за разработку и реализацию policy в тех или иных areas, оказываются в положении наемных работников, чьи функции ограничены теми задачами, которые ставят перед ними политики-наниматели. При этом они располагают достаточной автономией в сфере своей компетенции и подотчетны только перед нанимателями. Те, в свою очередь, обладая монополией на принятие решений и оценку реализации проектов, способны «изолировать» содержание преобразований от воздействия со стороны общественного мнения и хотя бы части групп интересов. По сути, в данном ключе можно рассматривать деятельность столь разных фигур, как Жан-Батист Кольбер и Анн Робер Жак Тюрго, Сергей Витте и Петр Столыпин, «чикагские мальчики» при Аугусто Пиночете и технократы из Opus Dei в последние десятилетия правления Франсиско Франко.
На первый взгляд, при таком разделении функций технократические преобразования policy автономны от логики politics (как в авторитарных режимах, так и в демократических, несмотря на очевидные различия в характере politics). Однако на передний план здесь выходят проблемы принципал-агентских отношений, масштаб которых возрастает в зависимости от масштаба реформ. Политики не в состоянии оценить ни то, насколько замыслы технократов адекватны проблемам страны, ни то, в какой мере воплощение в жизнь этих замыслов позволит достичь предусмотренных ими же целей. В лучшем случае информационные сигналы о результатах policy доходят до них с запозданием (или же, напротив, преждевременно, если речь идет о реформах, рассчитанных на длительную перспективу), в худшем — сопровождаются значительными искажениями, особенно в условиях авторитарных режимов. В этом плане отношения между политиками и реформаторами-технократами напоминают отношения между акционерами и менеджерами компаний, чьи интересы и стимулы заведомо различаются. Противоположностью технократическому подходу к policy выступает политический подход, при котором политики и/или партии, наделенные легитимностью, сами принимают решения на уровне policy (хотя эти решения, как правило, готовятся при участи экспертов) и сами несут за них ответственность: списать на экспертов неудачи преобразований им удается с трудом.
Но в случае политиков и реформаторов-технократов проблемы принципал-агентских отношений усугубляются тем, что деятели, осуществляющие policy, сосредоточивают в своих руках делегированную им власть, которая может быть использована и в целях politics. В отличие от наемных менеджеров компаний, которые не в силах свергнуть нанявших их акционеров, высокопоставленные технократы могут не только встать на сторону политических противников своих нанимателей, но и сами прийти к власти, оттеснив прежних руководителей и сменив роль технократов на роль политиков (примером может служить дон Рэба из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом»). При обострении вызовов и/или ухудшении ситуации в стране (не всегда вызванном деятельностью реформаторов) риски такого рода возрастают, усиливая напряжение во взаимоотношениях между политиками и технократами. Успешные реформаторы-технократы способны принести политикам даже больше вреда, чем неуспешные, — особенно при авторитарных режимах, где политические лидеры чаще всего теряют власть из-за внутриэлитных конфликтов. Поэтому политики оказываются перед соблазном сделать ставку не на эффективных, а на лояльных (этот подход обозначен у Стругацких как «умные не надобны, надобны верные»). Как показали Георгий Егоров и Константин Сонин, по мере ослабления позиций диктаторов шансы на замещение «умных» технократов («визирей») «верными» увеличиваются, что влечет за собой снижение качества проводимой policy.
Хотя примеры того, как «умные», но не слишком «верные» технократы бросают вызов своим прежним нанимателям-политикам, не столь редки, такое развитие событий все же следует рассматривать как крайний случай. Но чтобы «умные» технократы, успешно выполняя свои функции, оставались «верными», политикам приходится предпринимать специальные усилия, используя как стандартные, так и нестандартные решения проблем принципал-агентских отношений в государственном управлении. Помимо контроля над технократами и мониторинга их деятельности, призванного снизить информационные издержки, политики также вынуждены стимулировать конкуренцию между агентствами и неформальными кликами внутри аппарата управления, а то и ограничивать дискрецию технократов — часть их реформаторских намерений наталкивается на формальное или неформальное вето политиков (эти два решения не противоречат, а порой и дополняют друг друга). В итоге возможности технократов по реформированию политического курса сужаются как с точки зрения policy areas, в которые их допускают политики, так и с точки зрения влияния на реализацию своих же планов. Самое слабое звено здесь не разработка программ тех или иных преобразований, а претворение их в жизнь силами государственного аппарата, который лишь в малой мере подконтролен (а то и вовсе неподконтролен) технократам и чаще всего не заинтересован в реформах политического курса, независимо от их содержания. Там, где качество аппарата управления низкое, шансы реформаторов — даже при наличии carte blanche для проведения реформ — на адекватное воплощение их планов невелики. Поэтому им поневоле приходится ограничиваться частичными решениями, снижая масштаб преобразований и сужая их зоны до отдельных policy areas, где политики способны создать «карманы эффективности», находящиеся под их патронажем. Однако подобный подход уменьшает не только риски нелояльности со стороны технократов, но и эффективность реализуемого ими курса, которая становится как минимум неочевидной.
Наиболее существенным вызовом для технократических реформ является не противоречие между политиками и реформаторами и не скрытое или явное сопротивление бюрократии, а воздействие на выработку и реализацию policy различных групп интересов, действующих как изнутри, так и извне государственного аппарата. На фоне разрыва между politics и policy у «распределительных коалиций» и многочисленных соискателей ренты возникают новые шансы на продвижение своих корыстных интересов, в то время как шансы технократов на успешное создание неформальных (не говоря уже о формальных) коалиций в поддержку начатых ими преобразований policy не очень велики. Как правило, технократы борются с противниками реформ — соискателями ренты — за влияние на принятие решений политиками, но их подчиненный статус в процессе принятия таковых делает их весьма уязвимыми в части politics. Если в рамках политической модели мандат политиков открывает им окно возможностей для проведения реформ (во всяком случае, на ранней стадии «политического бизнес-цикла»), то в рамках технократической модели оно может быть закрыто едва ли не в любой момент, если усилия соискателей ренты увенчаются успехом, а тем более если противники преобразований, в краткосрочной перспективе проигравшие от их проведения, создадут успешные неформальные коалиции на основе негативного консенсуса. Хотя «изоляция» реформ от влияния подобных групп снижает риск их свертывания, она также делает неустойчивыми коалиции в поддержку реформ со стороны акторов, заинтересованных в их дальнейшей реализации (а не в остановке на полпути, к чему могут стремиться выигравшие на первой стадии их проведения). Реформаторы могут рассчитывать на воплощение своих планов лишь в том случае, если их предпочтения совпадают с приоритетами политических лидеров (или, по меньшей мере, не противоречат им). Собственно, их главным ресурсом становится умение «продавать» лидерам свои рецепты policy в привлекательной упаковке на протяжении относительно долгого времени. Успех такого подхода как минимум неочевиден, поэтому неудивительно, что преобразования политического курса нередко оказываются неустойчивыми и подвергаются искажениям, выхолащиванию или ревизии — зачастую даже под воздействием факторов, не связанных напрямую с содержанием самой policy. При этом неудача реформ не то чтобы ставит крест на планах преобразований, но делает проблематичным их претворение в жизнь силами тех же технократов.
Неблагоприятное сочетание факторов, определяющих характер технократической модели (нарастание проблем принципал-агентских отношений; риски нелояльности и попытки их снижения; ограниченные ресурсы и полномочия технократов на фоне сопротивления со стороны групп интересов и сложностей с созданием коалиций в поддержку преобразований), делает реформы policy ненадежным предприятием. При таком развитии событий реформаторы-технократы могут попасть в ситуацию, когда их роль в принятии решений еще больше сократится, а возможности хоть как-то изменить положение дел, по сути, сойдут на нет. Зона реформ сузится до небольшого числа «карманов эффективности» с низкими шансами распространить их опыт (пусть даже позитивный) на другие policy areas, а дискреция технократов сведется к участию в разработке программ преобразований в качестве советников и консультантов без полномочий принимать ключевые решения и воплощать их в жизнь. Несколько огрубляя, можно сказать, что в этом случае «визири», сохраняющие верность диктаторам, но отодвинутые от рычагов управления policy, превращаются в «евнухов». Формально высокий статус подобных деятелей служит не более чем вознаграждением за лояльность, маскируя их неспособность оказывать значимое влияние на policy и тем более на politics в соответствующих государствах.
Указанные ограничения технократического подхода к реформам политического курса не зависят от стран и эпох. Но в ряде стран постсоветской Евразии их усугубляют сами принципы государственного управления, главной целью и основным содержанием которого является извлечение ренты. «Захват государства» соискателями ренты происходит не только и даже не столько извне (представителями бизнеса), сколько изнутри (политиками и чиновниками, входящими в неформальную «выигрышную коалицию»). Будучи неустранимым, данное обстоятельство в лучшем случае вынуждает политиков, даже настроенных на проведение реформ, концентрировать усилия на узком круге приоритетных для них преобразований, оставляя на периферии реформы в других сферах, а в худшем — создает стимулы к пересмотру приоритетов в пользу коалиции бюрократов и соискателей ренты. Кроме того, зависимость от «режимных циклов» в странах постсоветской Евразии предполагает упор на преобразования, способные принести относительно быстрый успех, — подчас в ущерб долгосрочным планам, многие из которых остаются на бумаге. Поэтому реформаторы-технократы, даже когда им удается преодолеть сопротивление соискателей ренты и получить мандат от политиков на проведение реформ, ограничены во времени и в пространстве и ориентированы на то, что если их планы преобразований и могут быть реализованы, то лишь отчасти. Не случайно при разработке программ реформ уже на самых ранних стадиях включается самоцензура не только в отношении politics, но и в отношении policy. При таком подходе реализация реформ довольно часто осуществляется в режиме спецопераций и сопровождается многочисленными бюрократическими уловками, компромиссами и отказом от части преобразований.
Говоря о реформах policy в постсоветской Евразии, следует сделать две важные оговорки. Первая из них касается представлений о логике этих преобразований как о процессе, движимом идеями (неправильными, с точки зрения критиков). Левые публицисты склонны видеть в реформах проявление глобального заговора неолибералов, стремящихся положить конец социальным гарантиям. Их оппоненты, в свою очередь, обличают «тиранию экспертов», предлагающих непродуманные и не всегда пригодные для тех или иных стран и регионов рецепты, вследствие чего реформы не выдерживают испытания практикой и в итоге терпят неудачу. На деле, однако, идеи в рамках как politics, так и policy во многом зависят от интересов и ресурсов значимых акторов, и тот же неолиберализм (как основа политического курса) в посткоммунистических странах не имел идеологической окраски. De facto социальные расходы в этих странах уменьшались оттого, что правительства не могли пойти наперекор желаниям влиятельных представителей бизнеса и/или соискателей ренты и почти не встречали протеста со стороны профсоюзов и выразителей интересов других групп, рассчитывавших на государственную поддержку, а вовсе не в силу идейных воззрений руководителей тех или иных ведомств. Вторая оговорка связана с тем, что любые реформы в регионе (и не только) подчас трактуются лишь как способ приватизации выгод и национализации (обобществления) издержек правящими группами и реформаторы-технократы предстают не более чем исполнителями корыстных замыслов «олигархов» и/или бюрократов. Хотя история постсоветской приватизации (особенно случай российских «залоговых аукционов») дает основания для подобных суждений, было бы неверно видеть в расхищении ресурсов изначальную цель постсоветских преобразований — по крайней мере, на уровне программ и планов речь шла (и идет) о стремлении к экономическому росту и социальному развитию, пусть даже в результатах их воплощения порой очень трудно узнать исходный замысел. Но задача исследователей состоит не в том, чтобы заклеймить реформаторов-технократов позором, а в том, чтобы объяснить причины их успехов и неудач.
Истоки и смысл постсоветской технократии
Весной 1992 года в одной из пражских пивных встретились два посткоммунистических реформатора — Вацлав Клаус (тогда занимавший пост премьер-министра Чехии) и Егор Гайдар (на тот момент первый вице-премьер российского правительства). По свидетельству Гайдара, их дискуссия о проблемах экономической политики (policy) вскоре переросла в обсуждение стратегии реформ в смысле politics. Клаус, в частности, советовал Гайдару не ограничиваться выработкой и реализацией политического курса, а выступить в качестве независимого политического актора, который борется за власть посредством публичной агитации, создания политической партии и участия в выборах. В противном случае, по мнению Клауса, реформы в России могли быть остановлены и повернуты вспять. Советы Клауса были восприняты Гайдаром с немалым скепсисом и реализованы в малой мере. Созданный под руководством Гайдара избирательный блок «Выбор России» и его последовательницы — партии «Демократический выбор России» и «Союз правых сил» — довольствовались статусом младших партнеров правящей группы в неформальной «выигрышной коалиции», не претендуя на политическую автономию. Когда потребность Кремля в союзниках отпала, они быстро сошли с политической сцены, утратив значимость для politics. В целом Гайдар и его соратники на протяжении всех 1990-х годов последовательно придерживались роли «визирей», действовавших под прикрытием политического руководства в лице Бориса Ельцина и не стремившихся играть самостоятельную роль на поле politics. Сходные тенденции отмечались и в 2000-х годах, когда реформаторы-технократы (состав которых сменился далеко не полностью) активно участвовали в выработке и реализации policy в России, принимая формальные и неформальные «правила игры» и ограничения в плане politics как заданные и неоспоримые условия. Остались они «визирями» в 2010-е годы, хотя задаваемое politics пространство для их маневра в рамках policy все более сужалось. Однако при анализе реформ policy в России (да и не только) politics до сих пор выводится за скобки и не рассматривается, в том числе самими технократами, в качестве одного из важнейших факторов их успехов и неудач.
Разумеется, было бы неверным приписывать существенно больший по сравнению с Россией успех экономических реформ 1990-х годов в Чехии исключительно разнице в соотношении между policy и politics. Гайдар справедливо отмечал различия в стартовых условиях реформ и структурных проблемах, стоявших перед этими двумя странами. Более того, в плане politics Россия образца 1990-х годов отличалась высокой поляризацией и острыми конфликтами различных сил на фоне слабости государства. Данные процессы оставляли мало места для целостной и последовательной policy, и потому многие социально-экономические преобразования носили компромиссный характер, а процесс принятия решений в ряде случаев был более чем хаотическим. Так что, даже если бы (при удачном стечении обстоятельств) российские реформаторы перестали ограничиваться ролью «визирей» и попытались бы самостоятельно определять повестку дня politics, результаты их действий в смысле policy вряд ли оказались бы намного успешнее. В лучшем случае Россия пошла бы по пути «поляризованной демократии», подобно Болгарии 1990-х годов с ее непоследовательным и неэффективным политическим курсом при частой смене правительств. В худшем — возможное поражение реформаторов на поле politics усугубило бы негативные эффекты политического курса, проводившегося накануне распада СССР, и привело бы страну к хаосу, если не к распаду. Стратегический выбор в пользу роли «визирей», сделанный российскими реформаторами, принес определенные краткосрочные выгоды с точки зрения реализации реформ в ряде сфер policy в 1990-е и в 2000-е годы. Но в более длительной перспективе этот выбор обернулся немалыми издержками и для них самих, и для страны в целом в плане как politics, так и policy.
Каковы причины «технократического поворота» постсоветской модели policy, лишь только нарождавшейся в 1990-е годы на руинах советской системы? Прежде всего стоит подчеркнуть немалую преемственность этой модели по отношению к действовавшей в СССР, где разделение politics и policy было институционализировано на уровне взаимодействия между ЦК КПСС и правительством. Партийное руководство определяло основные направления politics, подконтрольный ему Совет министров осуществлял policy в заданных рамках, а реализация политического курса в конкретных сферах являлась прерогативой соответствующих ведомств. В подобных условиях система принятия решений была весьма герметичной, но при этом подверженной давлению со стороны групп интересов и лишь незначительно опиравшейся на внешнюю экспертизу. «Технократия» в СССР не предполагала обсуждения альтернатив политического курса даже на стадии подготовки решений. В лучшем случае «визири» из числа интеллектуалов приглашались для разработки отдельных официальных документов, но их влияние на принятие, а тем более на реализацию решений было невелико. В известной мере российские реформаторы 1990-х годов следовали по пути своих предшественников из числа позднесоветских «визирей». Во многом повторяла советскую и сложившаяся в эти годы в России (и других постсоветских странах) институциональная схема организации государственного управления. Президенты и их администрации определяли politics, в то время как правительства и соответствующие ведомства отвечали за выработку и осуществление policy. Советская же модель, в свою очередь, восходила к модели разделения полномочий между двором и кабинетом в царской России.
Хотя российские реформаторы 1990-х вышли из той же среды, что и их предшественники из числа интеллектуалов-«шестидесятников», они во многом отличались от них как своим прагматизмом, так и скепсисом по отношению к демократическим институтам. В годы перестройки этот скепсис оказался помножен на критическую оценку активного вторжения politics в сферу policy на фоне либерализации советской системы. Вместо того чтобы открыть дорогу к рождению политической модели взаимодействия politics и policy, такое вторжение на деле лишь усугубляло проблемы шедшей ко дну советской экономики и всего государства. В среде будущих реформаторов демократизация рассматривалась как источник популистских рисков и препятствие на пути экономических реформ, а изоляция правительства от общественного мнения и патронаж со стороны сильного лидера — как залог эффективности политического курса. В условиях кризиса советской системы как в плане politics, так и в плане policy шансы на успешную реализацию политической модели (сторонником которой среди тогдашних реформаторов выступал Григорий Явлинский) казались эфемерными. Политическое решение, принятое осенью 1991 года на Съезде народных депутатов России, — предоставить президенту Ельцину право единолично формировать кабинет министров и издавать имеющие силу закона указы по вопросам проведения экономических реформ — в тот момент однозначно поддержали как политическая элита страны, так и общественное мнение. Это решение фактически закрепило выбор в пользу технократической модели, а последующая конфронтация между Ельциным и российским парламентом, завершившаяся поражением последнего по принципу «игры с нулевой суммой», закрыла путь даже к частичному ее пересмотру. В ряде других стран постсоветской Евразии — от Украины до Казахстана — речь о выборе между политической и технократической моделями после распада СССР вообще не шла: советская схема государственного управления оказалась там напрямую воспроизведена в новом формате — без КПСС, но подчас с теми же самыми персонажами.
На практике реализация в России и других постсоветских странах технократической модели столкнулась с множеством проблем. Пожалуй, наиболее значимыми из них стали неэффективность аппарата государственного управления и влияние на policy различных групп интересов. Будучи выставлена за дверь со всеми формальными акторами, способными помешать policy, — избирателями, партиями и депутатами, — politics тайком проникала в окно вместе с влиятельными неформальными акторами — олигархами, лоббистами, родственниками и доверенными лицами политических лидеров, на деле мешавшими policy куда больше. И если в 1990-е годы расцвет групп интересов отчасти был побочным эффектом упадка административного потенциала новых государств, своего рода «детской болезнью» постсоветских преобразований (в таких странах, как Украина и Молдова, она затянулась вплоть до 2010-х годов), то в 2000-е это явление, ставшее атрибутом «недостойного правления» в постсоветской Евразии, приобрело черты «хронического заболевания». Не то чтобы рентоориентированный характер государственного управления не оставлял места для реформ политического курса, но он все больше превращал их в факультативный пункт повестки дня для президентов и правительств.
Вместе с тем о полной изоляции policy от politics зачастую не могло быть и речи, то есть технократическая модель имела мало шансов на реализацию в «чистом» виде. По крайней мере там, где сохранение политическими лидерами своего положения зависело от восприятия их общественным мнением, policy испытывала не меньшее, а порой и большее давление со стороны politics, чем в рамках политической модели. Хотя массовая поддержка политических лидеров опиралась на достижения в сфере экономики и, казалось бы, могла стимулировать реформы policy, краткосрочные издержки непопулярных мер порождали серьезные риски для власти, связанные с общественным недовольством. Даже не слишком крупные по своим масштабам неудачи, подобные слабо продуманной «монетизации льгот» в России в 2005 году, вызвавшей всплеск общественных протестов, вели к тому, что преобразования в ряде сфер policy откладывались, а само понятие «реформы» табуировалось в официальном дискурсе. Более того, на фоне «режимных циклов» в регионе зависимость судьбы политических лидеров от поддержки масс в условиях электорального авторитаризма побуждала их использовать государственный аппарат в первую очередь в целях politics — от обеспечения желаемых результатов выборов до раздачи значимых управленческих постов союзникам по «выигрышным коалициям». Все это создавало почти непреодолимые препятствия для реформ policy даже при наличии воли к их проведению на уровне politics — в лучшем случае речь шла о достижении некоей «точки насыщения», после которой дальнейшее продвижение реформ становилось невозможным.
В результате постсоветские реформаторы-технократы оказывались между молотом тех ожиданий успехов, которые возлагали на них политические лидеры и общественное мнение, и наковальней сопротивления их политическому курсу со стороны заинтересованных групп и государственного аппарата. При этом известный тезис о приватизации выгод и национализации издержек в ходе реформ имел двоякий смысл. Дело не сводилось к тому, что издержки преобразований несло общество в целом, тогда как выгоды от их проведения доставались олигархам и/или связанным с политическими лидерами соискателям ренты. Реформаторы, даже если им удавалось воплотить свои планы в жизнь, чаще всего не извлекали выгод из этих начинаний, подвергаясь критике со всех сторон и неся репутационные издержки, а их достижения ставились под вопрос и могли быть пересмотрены под воздействием политической конъюнктуры. Тем не менее потребность постсоветских государств в экономическом и социальном развитии поддерживала спрос на присутствие реформаторов в органах управления и обеспечивала предложение ими реформ. Но этот спрос с течением времени падал, а вместе с ним — и востребованность исходившего от реформаторов предложения. Так, при реализации правительственной программы «Стратегия-2010» («программы Грефа»), принятой в России в 2000 году, полностью либо частично в жизнь было воплощено менее половины предусмотренных ею мероприятий. Аналогичная по сути «Стратегия-2020», разрабатывавшаяся в начале 2010-х годов при участии многих из авторов «Стратегии-2010» и продолжавшая ее линию, оказалась de facto свернута, будучи выполнена менее чем на 30%. В этом свете судьба новых программ и стратегий выглядит более чем сомнительной.
Сказанное не означает, что технократическая модель политического курса, возникшая (либо возродившаяся в новом, «несовершенном» формате) в постсоветской Евразии после распада СССР, сегодня исчерпана. Напротив, она выглядит почти безальтернативной не только в России, но и в тех странах, которые пережили смену режимов в 2000–2010-е годы, в том числе в Грузии и на Украине. Важным ресурсом постсоветской технократии остается профессиональная экспертиза (зачастую достаточно успешная), прежде всего в столь тонких сферах, как налоговая политика и банковский сектор, где политические лидеры не могут обойтись без профессионалов. Ведь чтобы избежать кризисов в управлении своими странами, политические лидеры нуждаются в «защите от дурака», особенно в таких сферах, как экономика и финансы. При этом присутствие технократов в составе правящей «выигрышной коалиции» во многом повышает ее устойчивость, позволяя политическим лидерам действовать по принципу «разделяй и властвуй» в отношении своих младших партнеров и время от времени вознаграждать технократов в случае успешного совмещения ими лояльности с эффективностью. Более того, участие технократов в принятии решений не без оснований рассматривается экономическими агентами (включая международный бизнес) как пусть и слабый, но барьер на пути возможной экспроприации их активов связанными с чиновничеством соискателями ренты (эффект «пираньи») и произвольного изменения «правил игры». Иными словами, проводя реформы или просто поддерживая status quo, технократы легитимируют политико-экономический порядок и тем самым приносят выгоду как политическим лидерам, так и — порой — самим себе. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что политические лидеры, заинтересованные в успехе policy, без особого труда могут списать на технократов издержки тех или иных преобразований, тогда как позитивные эффекты реформ способны расширить возможности для соискателей ренты, увеличивая совокупную прибыль участников «выигрышных коалиций». И даже возможная замена «умных» «визирей» на «верных» означает не пересмотр технократической модели per se, а (при худшем развитии событий) лишь снижение качества проводимой policy. Отсюда — необходимость поворота от нормативной критики технократической модели политического курса (как «не должно быть») к ее позитивному анализу, то есть к выяснению того, как она работает «на самом деле» и почему ее воздействие на результаты и policy, и politics носят столь противоречивый характер.
Технократия за работой: реформы под перекрестным огнем
Казалось бы, нет ничего хуже для реформаторов, чем осуществлять преобразования policy в рамках политической модели. Они сталкиваются с неприятием реформ со стороны общественного мнения, оппозиционных партий в парламенте, общественных движений за его пределами и групп интересов за кулисами политического процесса. Если представить себе, что такая реформа, как введение в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ), проводилась бы правительством, политически ответственным перед избранным на свободных и справедливых выборах парламентом, то, скорее всего, коалиция рассерженных родителей, недовольных представителей школьной бюрократии, учителей и ректоров большинства (плохих) вузов не позволила бы министру образования вынести ее на рассмотрение парламента, а депутаты от оппозиционных партий блокировали бы ее в ходе голосования или добивались бы ее пересмотра по итогам очередных выборов. В лучшем случае реформа была бы надолго отложена и реализовывалась совершенно не в том ключе, в каком ее задумывали реформаторы, в худшем — оказалась бы полностью похороненной.
В рамках технократической модели policy внедрение ЕГЭ в России шло по иному сценарию. Столкнувшись с сопротивлением противников реформы, Министерство образования, с одной стороны, кооптировало их представителей в состав авторов громкой, но не имевшей практического значения Национальной доктрины образования, а с другой — подспудно внедряло ЕГЭ под видом «эксперимента», охватывавшего все более широкие круги выпускников школ. Когда «эксперимент» приобрел такие масштабы, что ЕГЭ сдавали практически все выпускники, законодательное оформление решения в Государственной Думе стало неизбежным. При этом идеи реформы, предполагавшие привязку результатов ЕГЭ к размеру государственных именных финансовых обязательств (ГИФО) для оплаты выпускниками обучения в вузах, были принесены реформаторами в жертву. Отказ от ГИФО отчасти был элементом сделки чиновников с депутатами, но отчасти был обусловлен сложностями внедрения модели ГИФО и отсутствием заинтересованности самих реформаторов в этой инновации.
На первый взгляд, такой исход преобразований можно считать успехом реформаторов-технократов — с помощью серии уловок и бюрократических трюков им удалось преодолеть сопротивление общественности и ряда заинтересованных групп и довести свои замыслы до реализации, пусть и не в полном объеме. Хотя внедрение ЕГЭ сопровождалось рядом эксцессов (связанных, в частности, с тем, что результаты ЕГЭ были включены в число критериев, на основании которых оценивалось качество работы глав исполнительной власти регионов), в конечном счете этот механизм стал неустранимым. Однако платой за это оказались проблемы иного рода. Содержание ЕГЭ со временем выхолащивалось: под воздействием заинтересованных групп тестирование все больше подменялось механизмами оценки, содержавшими немалый субъективный компонент. После смены министра образования в 2016 году было анонсировано, что все российские вузы получат право проводить — дополнительно к результатам ЕГЭ — вступительные экзамены, что во многом сводило на нет изначальный смысл всего этого начинания. И поскольку легитимность самого ЕГЭ вызывала большие сомнения (значительная часть россиян оценивала его негативно), ревизия сути прежней реформы и частичный отказ от нее не вызвали сколько-нибудь серьезного сопротивления.
Вопрос о том, что хуже — (1) долгая подготовка реформы, предполагающая публичные дискуссии и согласование позиций основных стейкхолдеров, ее поэтапное внедрение и последующее укоренение либо (2) относительно быстрое проведение реформы в режиме спецоперации в обход ключевых игроков, ее последующий пересмотр и выхолащивание, — явно выходит за рамки настоящей работы и нуждается в отдельном исследовании в сравнительной перспективе. Но в контексте постсоветской Евразии некоторые преобразования порой соединяют в себе худшие черты обоих вариантов, сочетая умиротворение и кооптацию стейкхолдеров с приватизацией выгод и национализацией издержек. Вследствие такого развития событий тактика селективного умиротворения стейкхолдеров превращается в стратегию, когда покупка лояльности вето-игроков из средства проведения реформ оказывается их целью. Платой за достижение этой цели становится не только усиление влияния стейкхолдеров, но и сомнительная легитимность реформ как таковых. Весьма примечательна в связи с этим политика приватизации государственных предприятий в России в 1990-е годы, включавшая в себя кооптацию «красных директоров» в обмен на их лояльность реформе и вывод за рамки общих правил приватизации наиболее привлекательных активов посредством залоговых аукционов, обеспечивших передачу этих активов приближенным к власти олигархам. Хотя реформа прошла в целом успешно и многие приватизированные предприятия демонстрировали немалую эффективность, легитимность проведенной в России приватизации была низкой, в том числе по сравнению с рядом других посткоммунистических стран, а поддержка пересмотра ее итогов — напротив, высокой. Неудивительно, что предпринятая в 2000-е годы контрреформа — ползучая национализация приватизированных, да и некоторых частных активов («захват бизнеса») — была воспринята как куда более легитимная, нежели приватизация, сведя на нет часть результатов реформы 1990-х годов. По оценкам Федеральной антимонопольной службы России, к осени 2016 года российское государство сосредоточило в своих руках свыше 70% всех активов.
Таким образом, реализуя политический курс в рамках технократической модели, реформаторы-технократы попадают под перекрестный огонь. Если они, пытаясь удовлетворить сильные заинтересованные группы, идут на компромиссы, эти компромиссы могут оказаться неработающими: реформы просто не достигают своих целей. Если же им удается перехитрить оппонентов и добиться своего, то инициированные ими реформы утрачивают необратимость, и на смену им могут прийти контрреформы, возвращающие ситуацию к «точке отсчета» или даже ухудшающие ее по сравнению с дореформенной. Вот почему реформаторы-технократы часто не в состоянии ограничиться policy: им приходится искать опору на поле politics — не столько в лице политических партий и/или общественного мнения, сколько в лице политических лидеров. Действительно, политические лидеры бывают заинтересованы в успешном проведении реформ, которые укрепляют их власть и/или повышают их популярность в обществе. В этих случаях они возглавляют широкие или узкие неформальные коалиции в поддержку преобразований. Примерами здесь служат административная реформа в Грузии в период президентства Саакашвили и рецентрализация государственного управления в России в начале 2000-х годов.
Однако поддержка со стороны политических лидеров не гарантирует безоговорочного успеха policy, которую продвигают реформаторы-технократы: это условие если и необходимое, то недостаточное. Во-первых, при смене лидеров страны под вопросом может оказаться и проводимый при их активной поддержке политический курс — как произошло, например, с «модернизацией», громогласно заявленной в качестве приоритета policy в России при Дмитрии Медведеве. Создание широких коалиций в поддержку реформ хотя и снижает этот риск (преобразования в Грузии отнюдь не были преданы забвению после ухода Саакашвили), но не снимает его полностью. Во-вторых, приоритеты политических лидеров могут по тем или иным причинам измениться, и тогда реформы пойдут в совершенно ином направлении, чем изначально задумывалось. Так, с поворотом российских властей к геополитике после аннексии Крыма в 2014 году отечественные реформаторы-технократы были отодвинуты на запасный путь политического курса. Но даже если политические лидеры искренне привержены преобразованиям policy и сохраняют заинтересованность в реформах на протяжении более или менее длительного срока, число их приоритетов не может быть слишком велико по определению. Поддержав реформы в двух-трех ключевых областях, они вынуждены оставлять иные сферы policy на периферии своего внимания. Оборотной стороной успеха налоговой реформы начала 2000-х годов в России, активно поддержанной Владимиром Путиным, стала неудача ряда других преобразований.
Поддержка политического лидера жизненно необходима реформаторам, чтобы преодолеть или хотя бы ослабить сопротивление преобразованиям со стороны заинтересованных групп. Но и этой поддержки может оказаться недостаточно: сильные и укорененные заинтересованные группы способны перенаправить изменения в нужное им русло. Именно так произошло с реформой МВД в России в начале 2010-х годов — несмотря на широкую публичную дискуссию (а возможно, и вследствие ее), эта реформа фактически свелась лишь к смене вывесок и перетасовке персонала. Даже если политические лидеры преодолевают сопротивление заинтересованных групп, технократам редко удается поставить под свой контроль хотя бы ту часть бюрократии, от которой зависит реализация предложенного ими политического курса, часто требующая взаимодействия различных агентств. Не случайно министерства финансов и центральные банки ряда постсоветских стран вполне успешно проводили макроэкономическую политику, боролись с инфляцией и (при наличии политической поддержки) осуществляли налоговые реформы, в то время как реформы в сфере социальной поддержки населения буксовали и/или шли по пути примитивного перераспределения расходов. Помимо прочего, такое положение вещей было связано с тем, что управление государственными финансами и реформы в этой сфере в конечном счете зависели от решений, принятых узким кругом лиц, и их формальная и неформальная координация позволяла проводить разумный политический курс. А успешная социальная поддержка требовала координации не просто отдельных лиц, но различных сегментов бюрократии на общенациональном и субнациональном уровнях. Добиться такой координации в устойчивом формате при низком качестве бюрократии было не под силу не только реформаторам-технократам, но и политическим лидерам.
Неудивительно, что наиболее привлекательным для технократов механизмом реализации реформ оказываются «карманы эффективности» — особые «правила игры» в той или иной сфере и отдельные институции, действующие вне общих рамок регулирования и обладающие большей свободой маневра при проведении в жизнь преобразований policy. Так, масштабная приватизация предприятий в России 1990-х годов стала возможной благодаря созданию Госкомимущества — вертикально интегрированного органа управления, наделенного эксклюзивным правом по организации продажи активов и замкнутого на команду реформаторов-технократов во главе с Анатолием Чубайсом. Несмотря на слабость имевшихся в распоряжении федерального центра в 1990-е годы рычагов принуждения по отношению к регионам, Госкомимущество с помощью «кнута» угроз и «пряника» бонусов сумело реализовать федеральную программу приватизации в большинстве регионов России, кроме наделенных особым статусом, как, например, Москва и Татарстан. При этом посредством различных уловок ему удалось добиться не только легального оформления своих планов реформ, но и широкой дискреции собственной деятельности — по сути, оно выступало как своего рода «государство в государстве», хотя после завершения процессов приватизации и перемещения Чубайса на полупериферию российской политической сцены влияние этой структуры и ее преемников существенно снизилось.
Формальная институционализация «карманов эффективности» порой дополняется и/или подменяется институционализацией неформальной в виде патронажа политических лидеров по отношению к пестуемым ими проектам и программам. Примеров тому в России и других странах постсоветской Евразии немало, и некоторые начинания такого рода, чем бы они ни мотивировались, подчас приносят неплохие плоды. Та же программа продвижения российских вузов к вершинам мировых рейтингов, поддержанная руководством страны, не только обеспечила вливание денег в «продвинутые» вузы, но и повысила интерес российских исследователей к международным публикациям. Но в целом из-за своей неформальной природы и высокой зависимости от politics патронаж оказывается весьма уязвимым в качестве механизма реформирования policy. Сдвиги в составе политического руководства могут положить конец начинаниям тех или иных лидеров, а смена приоритетов политических лидеров в силу внешних шоков и/или изменившихся предпочтений способна поменять содержание даже успешно реализованных реформ (как происходит в настоящее время в России в налоговой сфере).
Резюмируя, можно утверждать, что в рамках несовершенной технократической модели многие преобразования даже при самых благоприятных условиях могут быть реализованы лишь частично, их суть — выхолощена по мере внедрения в жизнь, а характер и направленность — повернуты вспять. Партии и их представители в случае неудачи своего курса могут провести «работу над ошибками» и через какое-то время перезапустить реформы — как правило, в рамках одного из последующих «политических бизнес-циклов». Но реформаторам-технократам, чья «кредитоспособность» зависит от репутации в глазах политиков-нанимателей, второго шанса может не представиться. Это стимулирует технократов к тому, чтобы использовать открывающееся для них «окно» (а то и «форточку») возможностей для проведения в первую очередь тех преобразований, которые способны дать быстрый позитивный результат, откладывая реформы, ориентированные на длительную перспективу, в «долгий ящик» или идя на компромиссы, de facto перечеркивающие их. Наглядным примером здесь может служить неудача начатой в 2000-е годы в России пенсионной реформы — на фоне успеха проведенной тогда же налоговой реформы. Если позитивные эффекты налоговых инноваций проявились почти сразу, то пенсионная реформа предполагала долгосрочную реализацию и значительные издержки для граждан и компаний в связи с переходом на накопительную систему и повышением пенсионного возраста. Поскольку у реформаторов-технократов и изначально поддерживавших их политических лидеров не было стимулов к проведению мер, способных принести плоды через десятилетия, а бюрократия, выступавшая в роли вето-игрока, была заинтересована в сохранении status quo, итогом многочисленных дискуссий стал «компромисс в квадрате». Частичная и противоречивая реформа 2002 года не только не решила пенсионные проблемы страны, но и переложила их решение на будущее, когда условия для проведения в жизнь необходимых преобразований оказались гораздо менее благоприятными. Однако в более общем плане выбор краткосрочных приоритетов отражал тот факт, что политические лидеры ряда постсоветских стран были склонны вести себя, в терминах Мансура Олсона, как «кочевые», а не как «стационарные» бандиты — их горизонт планирования редко выходил за пределы одного электорального цикла, а стимулы к передаче власти по наследству были не столь значительными (случай Азербайджана, где власть перешла от Гейдара Алиева к его сыну Ильхаму, является исключением, подтверждающим правило).
Таким образом, несовершенная технократическая модель реализации политического курса наталкивается на серьезные ограничения, часть из которых выглядит неустранимой. С одной стороны, реформаторы-технократы (как и их покровители из числа политических лидеров) вынуждены отдавать приоритет реформам, сулящим быструю отдачу, в ущерб долгосрочным целям. С другой стороны, низкое качество бюрократии и влияние заинтересованных групп искажают цели и средства преобразований и накладывают негативный отпечаток на их результаты. Даже если различные уловки технократов (квазиэкспериментирование, создание «карманов эффективности», кооптация и компромиссы, сопровождающиеся отказом от отдельных реформ) приносят им успех, цена его оказывается высока с точки зрения социальной базы преобразований, их общественной поддержки и перспектив необратимости. Но, признавая все эти изъяны и дефекты технократической модели policy в условиях России и других постсоветских стран, необходимо задаться вопросом о возможных альтернативах. Насколько они желательны и реалистичны «здесь и сейчас» и каковы их возможные результаты и последствия?
Альтернативы технократии: от плохого к худшему?
Что произойдет в России и других постсоветских странах, если по тем или иным причинам реформы policy не будут осуществляться вообще и вся деятельность технократов в органах управления сведется к поддержанию приемлемого положения дел на жизненно важных в глазах политических лидеров направлениях? Скорее всего, в краткосрочной перспективе ни сами лидеры, ни их сограждане не заметят ничего нового, а то и вздохнут с облегчением, будучи более чем пресыщены многочисленными реформами (как успешными, так и неудачными) за последние четверть века. При таком подходе (а он выглядит весьма вероятным — по крайней мере, в случае России) негативные эффекты уклона в пользу сохранения status quo (status quo bias) проявятся лишь через некоторое время, которое может совпасть и со сменой политических лидеров. Но, так или иначе, вопросы как о реформах policy, так и о механизмах их осуществления рано или поздно встанут перед постсоветскими государствами, актуализируя поиск альтернатив несовершенной технократической модели.
С точки зрения ряда аналитиков, да и самих реформаторов, напрашивающимся решением было бы исправление дефектов технократической модели, позволяющее если не снять, то обойти препятствия на пути ее реализации. Речь идет, в частности, о создании стимулов к повышению эффективности бюрократии посредством конкуренции между агентами, об ограничении полномочий тех или иных агентств и перераспределении их функций и — в предельном варианте — о замене «плохих» политических лидеров, чьи «выигрышные коалиции» сплошь и рядом состоят из соискателей ренты, на «хороших», то есть реформаторски настроенных и невороватых диктаторов. Проблема, однако, заключается в том, что «на одного Ли Кван Ю приходится много Мобуту» не только и не столько в силу личных качеств политических лидеров. Их стимулы в постсоветских странах (и не только) таковы, что оставляют немного шансов на избавление от имманентно присущих несовершенной технократической модели дефектов путем превращения этой модели в совершенную. Было бы нелепо отрицать, что кадровые перестановки и изменение «правил игры» в тех или иных сферах policy могут улучшить ситуацию. О важной роли личностей в постсоветских преобразованиях написано немало, но призыв в ряды реформаторов даже самых успешных кандидатов на ключевые посты не гарантирует решения принципиальных проблем технократической модели policy. Напротив, попытки улучшить эту модель в условиях низкого качества бюрократии и господства заинтересованных соискателей ренты зачастую ведут к раскручиванию спирали регулирования, ужесточению ее плотности, дальнейшему увеличению дискреции контрольно-надзорных и правоохранительных органов и — в конечном счете — созданию новых препятствий на пути реформ policy взамен прежних, а то и в дополнение к ним.
Но каковы шансы на то, что гипотетический переход от несовершенной технократической модели реализации policy к политической даст позитивный эффект? В краткосрочной перспективе они представляются более чем сомнительными. Опыт таких стран, как Молдова и Украина (особенно после 2014 года), свидетельствует о том, что политически ответственные перед парламентом кабинеты министров, сформированные по итогам свободных и справедливых выборов, не лучше справляются с проведением реформ policy, нежели технократические правительства. В этих случаях можно говорить о «захвате государства» извне, то есть со стороны олигархических групп, конкурирующих друг с другом за извлечение ренты. При таком развитии событий реформы policy, даже если они декларируются в качестве приоритетов политическими лидерами, могут оказаться заблокированными. Череду раздираемых противоречиями слабых и коррумпированных правительств трудно назвать привлекательной альтернативой технократической модели. Подобный сдвиг чреват усугублением проблем принципал-агентских отношений в рамках «хищнического» государственного аппарата на фоне децентрализованной коррупции (еще более опасной, чем централизованная). Опасность перехода к политической модели состоит и в том, что новые правительства могут быть «захвачены» экономическими популистами, готовыми использовать массовую поддержку для проведения заведомо неэффективного политического курса. Антиавторитарный популизм, получивший распространение в ряде стран «третьего мира» как реакция на многочисленные дефекты и неудачи технократической модели, способен привести постсоветские страны от плохого к худшему: в условиях «недостойного правления» соблазны такого рода со временем лишь возрастают.
Однако если говорить о России, то на сегодняшний день как переход от несовершенной технократической модели policy к совершенной, так и поворот к политической модели выглядят маловероятными. Политический режим в стране далек от полномасштабного кризиса, а задаваемые им стимулы способствуют не переменам, а консервации status quo. Поэтому реалистической альтернативой здесь оказываются не попытки улучшить качество policy, а отказ от реформ и умиротворение соискателей ренты, которые становятся все более прожорливыми на фоне экономической стагнации. Свидетельством тому может служить печальная участь идеолога постсоветской технократии, чьи слова были процитированы в начале статьи. В ноябре 2016 года Алексей Улюкаев, занимавший на тот момент пост министра экономического развития РФ, с согласия главы государства был задержан и помещен под домашний арест по обвинению в получении взятки в ходе приватизации крупного пакета акций государственной компании «Роснефть». По оценкам, высказывавшимся в СМИ, Улюкаев, который неоднократно выступал против предоставления преференций государственным компаниям и возражал против предложенной схемы приватизации «Роснефти», едва ли был виновен в инкриминируемых ему деяниях. Между тем после того, как Улюкаев лишился должности министра, приватизация пакета акций «Роснефти» была проведена по крайне непрозрачной и сомнительной схеме: кредит на покупку акций иностранным инвесторам предоставил российский «Газпромбанк» под залог купленных акций. В свою очередь холдинг «Роснефтегаз» (держатель акций «Роснефти») ранее разместил в «Газпромбанке» крупный депозит, за счет которого и была профинансирована сделка: наблюдатели не без оснований сравнивали ее с «залоговыми аукционами» 1990-х годов. Итогом сделки стало усиление позиций менеджмента «Роснефти» во главе с входящим в ближний круг Путина Игорем Сечиным, который даже на общем фоне руководителей российских государственных и квазигосударственных компаний выступал одним из наиболее заметных соискателей ренты. Улюкаев, придерживавшийся иных приоритетов политического курса, с согласия политических лидеров был фактически принесен в жертву интересам соискателей ренты. О каких-либо реформах policy в этом случае (как и в ряде других) не шло и речи.
По иронии судьбы слова Улюкаева, произнесенные им более чем за два десятилетия до этих событий, воплотились в жизнь. Принятие решений, связанных с приватизацией акций «Роснефти», носило вполне «компетентный» характер и зависело «от знаний и опыта, а не от результатов голосования». Проблема состояла лишь в том, что компетентность, знания и опыт соискателей ренты намного превосходили по значимости компетентность, знания и опыт самого Улюкаева и других российских реформаторов-технократов. Пытаясь избежать негативного влияния politics на policy и обеспечить «„режим нераспространения“ политической сферы на иные сферы общественной жизни», и сами реформаторы, и постсоветские страны в целом угодили в ловушку, когда policy подвергается не менее, если не более опасным негативным воздействиям, а politics не только не позволяет препятствовать этим воздействиям, но и усугубляет их. Технократическое лекарство оказалось хуже болезни, и лишь будущее покажет, удастся ли странам постсоветской Евразии найти иные, более эффективные средства.