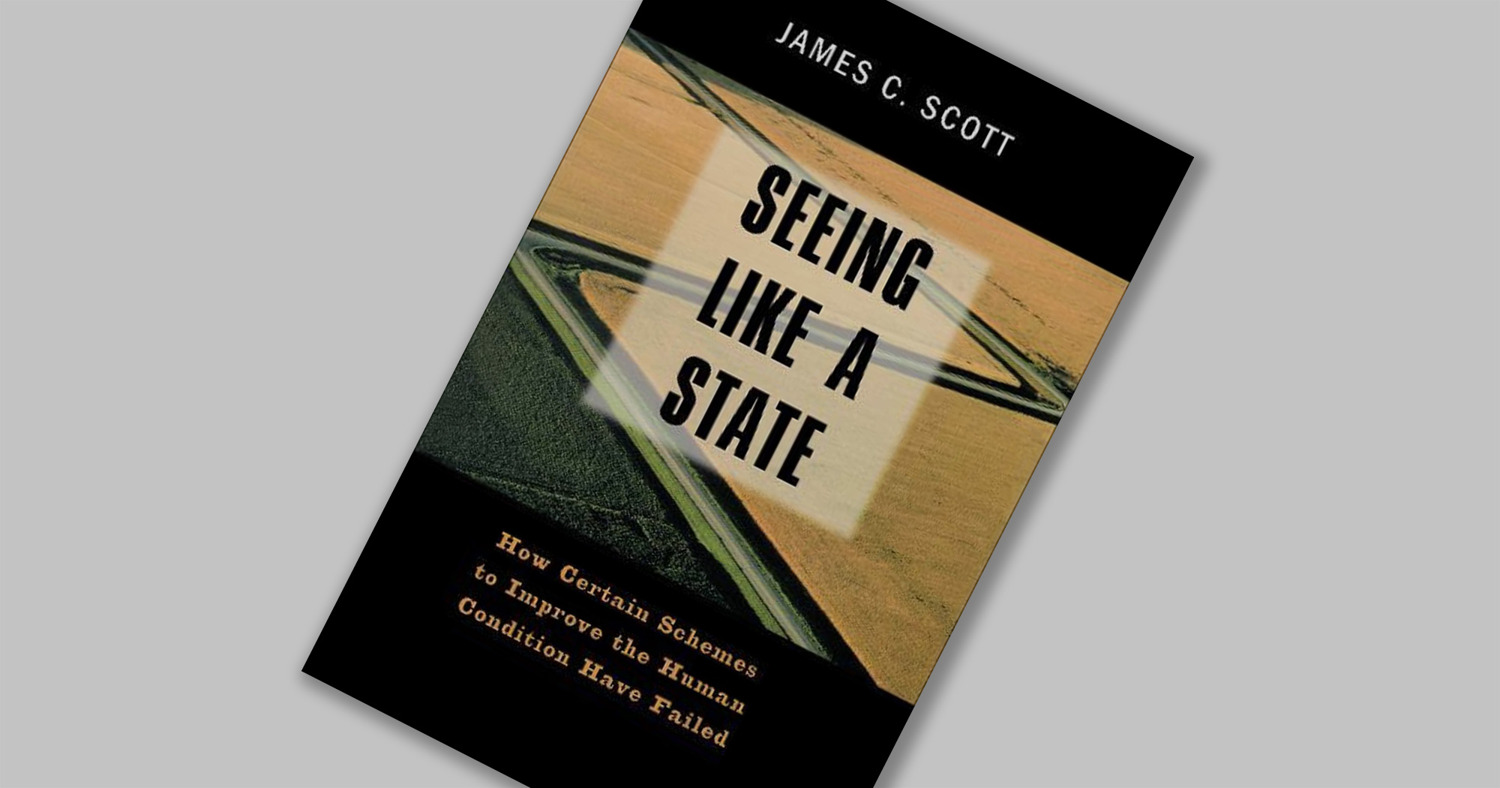ОУ публикует фрагмент введения к книге американского антрополога Джеймса Скотта «Благими намерениями государства», посвященной анализу логики политического поведения бюрократов и государственных проектов по радикальной трансформации природной и социальной действительности.
C государственной точки зрения
Эта книга выросла из интеллектуального отступления, которое стало таким захватывающим, что я решил вообще отказаться от моего первоначального маршрута. Совершив, казалось, необдуманный поворот, я увидел удивительный новый пейзаж и почувствовал, что направляюсь именно туда, куда надо, — это убедило меня изменить планы. Новый маршрут, я полагаю, имеет свою собственную логику. Он мог бы оказаться еще более изящным, если бы я додумался до этого с самого начала. Совершенно ясно, однако, что обходной путь, пусть и по более ухабистым и окольным дорогам, чем я рассчитывал, привел к более существенному результату. Читатель, разумеется, мог бы найти более опытного проводника, но маршрут этот так далек от протоптанных троп, что, если вы отправляетесь именно туда, вам придется согласиться на того следопыта, которого удалось найти.
Несколько слов относительно пути, по которому я не пошел. Сначала я собирался выяснить, почему государство всегда оказывалось врагом, грубо говоря, «бродяг». В контексте Юго-Восточной Азии это обещало плодотворные возможности объяснения извечно напряженных отношений между подвижными народами гор, использующих подсечно-огневую систему земледелия, с одной стороны, и производителями риса-сырца, жителями долинных царств, с другой. Вопрос, однако, вышел за рамки региональной географии. Кочевники и скотоводы (вроде берберов и бедуинов), охотники-собиратели, цыгане, бродяги, бездомные, странники, беглые рабы и крепостные всегда были занозой в теле государств. Усилия, направленные на достижение устойчивой оседлости этих кочевых народов, превращались в постоянно действующий государственный проект — в частности, потому, что это так редко удавалось.
Чем больше я исследовал эти усилия по закреплению оседлости, тем больше видел в них попытку государства сделать общество более понятным, организовать население так, чтобы упростить государству исполнение его классических функций: сбора налогов, обеспечение воинской повинности и предотвращение волнений. Начав двигаться в этих понятиях, я увидел в «прозрачности» общества для взгляда государства центральную проблему государственного управления. В эпоху премодерна государство было во многих важных отношениях слепым: оно совсем мало знало о своих подданных — об их благосостоянии, землях и урожаях, местонахождении, да даже и о том, кто они вообще такие. Государство нуждалось в чем-нибудь вроде детальной «карты» своих земель и людей. А главное, недоставало меры — метрики, которая позволила бы ему «переводить» то, что оно знало, в некий общий стандарт, необходимый для обозрения. Поэтому вмешательства государства в жизнь подданных были часто непродуманными и губительными.
Именно с этого места и началось отступление от первоначально выбранного пути. Каким образом государство постепенно приобрело власть над своими подданными и средой их обитания? Внезапно такие разные процессы, как создание постоянных фамилий, стандартизация мер и весов, учреждение земельного кадастра и переписи населения, изобретение права собственности на землю, стандартизация языка и логики, проектирование городов и организация транспорта становились понятными как стремление к простоте и ясности. В каждом случае чиновники имели дело с исключительно сложными и невнятными местными социальными практиками — с обычаями землевладения или способами наименования — и создавали стандартную схему, посредством которой можно было бы централизованно регистрировать и прослеживать действие этих обычаев.
Организация природного мира не составила исключения. В конце концов, сельское хозяйство есть радикальная реорганизация и упрощение флоры ради достижения целей человека. Каковы бы ни были другие цели проектов научного лесоводства и сельского хозяйства, проектов размещения и устройства плантаций, колхозов, деревень уджамаа и стратегических поселений — все они казались направленными на то, чтобы сделать территорию, ее производство и рабочую силу более доступной обзору, а, следовательно, и управлению — сверху и из центра.
Здесь может оказаться полезной аналогия с пчеловодством. Во времена премодерна сбор меда был трудным делом. Даже если пчелы размещались в соломенных ульях, собирание меда обычно было связано с выселением пчел, и часто пчелиная семья при этом гибла. Устройство помещений для расплода и ячеек меда следует сложному рисунку, меняющемуся от улья к улью, — рисунку, который не учитывали во время извлечения меда. Современный улей, напротив, разработан, чтобы решить эти проблемы пчеловода. При помощи устройства, которое называется маточная разделительная решетка, помещения для расплода отделяются от запасов меда, не позволяя матке откладывать яйца в количестве, превышающем определенный уровень. Кроме того, восковые ячейки аккуратно расположены в вертикальных рамках, по девять или десять в коробке, что позволяет легко извлекать мед, воск и прополис. Выемка стала возможной благодаря соблюдению «пчелиного пространства» — точно рассчитанного зазора между рамками, который пчелы оставляют свободным для прохода, не соединяя рамки между собой сотами. С точки зрения пчеловода, современный улей — упорядоченный и «доступный наблюдению» — позволяет следить за состоянием семьи и матки, судить о ее продуктивности (по весу), увеличивать или уменьшать размер улья на стандартные единицы, перемещать его на новое место, а главное, не извлекать чрезмерное количество меда (в умеренном климате), чтобы обеспечить успешную зимовку пчелиной семьи.
Не хотелось бы распространять эту аналогию дальше, чем следует, но многое из эпохи раннего модерна в европейском искусстве управления государством кажется мне очень похожим: рационализация и стандартизация, перевод сложного и причудливого социального иероглифа в наглядный и административно более удобный формат. Введенные таким образом социальные упрощения не только позволяли более точно наладить сбор налогов и исполнение воинской повинности, но и вообще значительно расширили возможности государства. Они сделали возможными вмешательства государства в жизнь граждан с самыми разными целями, такими как санитарные мероприятия, политический надзор или помощь бедным.
Эти государственные упрощения, основная данность в управлении государством с начала Нового времени, были, как я начал понимать, довольно похожи на абрисные изображения территории. Они отнюдь не представляли истинную деятельность общества, которое они изображали, и не для этого были предназначены: они представляли только тот срез общества, который интересовал официального наблюдателя. Кроме того, это были не просто карты. Это были такие карты, которые, будучи соединенными с государственной властью, позволяли многое переделать в той действительности, которую они изображают. Так, государственный земельный кадастр, созданный, чтобы определять подлежащих налогообложению земельных собственников, не просто описывает систему землевладения: он создает такую систему благодаря способности придавать своим категориям силу закона. В первой главе я пытаюсь объяснить, насколько всеобъемлюще общество и окружающая среда были переделаны наглядными государственными картами.
Этот взгляд на управление государством эпохи раннего модерна не особенно оригинален, но, соответственно измененный, он может дать различную оптику, сквозь которую можно с пользой для дела рассмотреть множество примеров колоссальных фиаско в развитии беднейших государств третьего мира и Восточной Европы.
Но «фиаско» — слишком легковесное слово для бедствий, которые я имею в виду. Большой скачок в Китае, коллективизация в России и принудительное собирание людей в деревни в Танзании, Мозамбике и Эфиопии занимают свое место среди великих человеческих трагедий двадцатого века по числу утраченных и непоправимо разрушенных жизней. На менее драматическом, но гораздо более привычном уровне история развития третьего мира погребена под завалами грандиозных сельскохозяйственных и градостроительных проектов (таких как Бразилиа или Чандигарх), в которых пострадавшей стороной являются их жители.
Не так уж трудно, увы, понять, почему так много человеческих жизней было разрушено столкновениями между этническими группами, религиозными сектами или языковыми общинами. Труднее уяснить, почему так много хорошо задуманных систем улучшения условий человеческого существования развивалось так трагически неудачно. На последующих страницах я намерен дать убедительный логический анализ причин, лежащих в основе краха некоторых великих утопических социальных проектов двадцатого века.
Я собираюсь доказать, что наиболее трагические примеры социальных проектов государства осуществляются в губительном сочетании четырех элементов, причем для полностью развернувшегося бедствия все эти элементы необходимы. Первый из них — административное рвение, стремящееся приводить в порядок природу и общество — государственные упрощения, описанные выше. Сами по себе они представляют лишь ничем не замечательные инструменты современного управления государством; они столь же необходимы для обслуживания нашего благосостояния и свободы, как и для проектов потенциального современного диктатора. Они поддерживают концепцию гражданства и условия социального благосостояния, но так же могли бы поддерживать политику заключения нежелательных меньшинств в концлагерях.
Второй элемент — это то, что я называю идеологией высокого модернизма. Это наиболее мощная, можно даже сказать, чрезмерно мускулистая версия уверенности в научно-техническом прогрессе, расширении производства, возрастающем удовлетворении человеческих потребностей, господстве над природой (включая человеческую природу) и, главное, в рациональности проекта социального порядка, выведенного из научного понимания естественных законов. Она сложилась, конечно, на Западе как побочный продукт беспрецедентного прогресса науки и промышленности.
Высокий модернизм не нужно путать с научной практикой. Это существенно, поскольку термин «идеология» подразумевает веру, которая занимает место учета закономерностей науки и техники, как это и было в действительности. Вера была, таким образом, некритической, нескептической и, соответственно, ненаучно оптимистической относительно возможностей всеохватного планирования человеческого расселения и производства. Носители идеологии высокого модернизма были склонны видеть рациональный порядок в наглядных визуальных эстетических терминах. Для них эффективный, рационально организованный город, деревня или ферма был поселением, которое выглядело упорядоченным в геометрическом смысле. Носители идеологии высокого модернизма, когда их планы терпели неудачу или им мешали, отступали по направлению к тому, что я называю миниатюризацией: создание более легко управляемого микропорядка в образцовых городах, образцовых деревнях и образцовых фермах.
Наиболее трагические примеры социальных проектов государства осуществляются в губительном сочетании четырех элементов, причем для полностью развернувшегося бедствия все эти элементы необходимы.
Высокий модернизм относился к «интересам» так же, как к вере. Его носители, даже когда они были капиталистическими предпринимателями, совершали требуемые государством действия, чтобы реализовать его планы. В большинстве случаев это были крупные должностные лица и главы государств. Они предпочитали некоторые формы планирования и социальной организации (огромные дамбы, централизованную связь и транспорт, большие фабрики и фермы, города, выстроенные по схеме упорядоченной сетки), потому что эти формы были удобны — на взгляд носителя идеологии высокого модернизма, — а также отвечали их политическим интересам как государственных чиновников. Имелось, мягко говоря, избирательное сродство между высоким модернизмом и интересами многих государственных официальных лиц.
Подобно любой идеологии, высокий модернизм имел специфический временной и социальный контекст. Подвиги национальной экономической мобилизации воюющих сторон (особенно Германии) в мировой войне, мне кажется, отмечают его высочайшие достижения. Это и не удивительно: его наиболее плодородная социальная почва и должна была найтись среди планировщиков, инженеров, архитекторов, ученых и техников, чьи навыки и положение он использовал для проектирования нового порядка. Вера в высокий модернизм не требовала никакого пересмотра традиционных политических границ; его представителей можно было найти в политическом спектре от левого конца до правого, но особенно часто они попадались среди тех, кто хотел использовать государственную власть, чтобы вызвать огромные, утопические изменения в народных привычках — привычках работы, образе жизни, моральном поведении и взгляде на мир. Само по себе это утопическое видение не было опасным — там, где оно одушевляло планы дальнейшей жизни в либеральных парламентских обществах, где планировщики были должны договариваться с организованными гражданами, оно могло подталкивать реформы.
Только когда к этим первым двум элементам присоединяется третий, сочетание становится смертельно опасным. Третий элемент — это авторитарное государство, которое желает и способно использовать всю свою власть, чтобы воплотить в жизнь эти высокомодернистские проекты. Наиболее плодородная почва для этого — время войны, революции, депрессии и борьбы за национальное освобождение. В таких ситуациях чрезвычайные обстоятельства способствуют узурпации чрезвычайных полномочий и часто делегитимизируют предыдущий режим. Также характерно, что к власти приходят такие элиты, которые отрекаются от прошлого и предлагают людям революционные проекты.
Четвертый элемент тесно связан с третьим: обессиленное гражданское общество, которое неспособно сопротивляться этим планам. Война, революция и экономический крах часто резко ослабляют гражданское общество и делают народные массы более восприимчивыми к идее передела имущества. Позднее колониальное правление, с его социально-техническими стремлениями и способностью управлять за счет грубой силы против популярной оппозиции, иногда оказывалось способно выполнить это последнее условие.
Подытоживая, скажем: доступность взгляду общественной конструкции дает возможность крупномасштабной социальной перестройки, идеология высокого модернизма заставляет желать ее, авторитарное государство обеспечивает готовность действовать в соответствии с этим желанием, а выведенное из строя гражданское общество позволяет выровнять социальный ландшафт, чтобы на нем строить все заново.
Как заметил читатель, я еще не объяснил, почему высокомодернистский план, поддержанный авторитарной властью, на практике терпел неудачу. Объяснение неудачи — моя вторая цель.
Разработанный и спланированный социальный порядок с необходимостью схематичен — он всегда игнорирует существенные черты любой реальности, любого функционирующего социального порядка. Этот факт легче всего проиллюстрировать забастовкой того типа, которая называется «соблюдать правила» — она основана на том, что любой процесс производства зависит от неформальных методов и импровизаций, которые никогда не смогут быть кодифицированы. Просто скрупулезно придерживаясь правил, рабочие могут фактически остановить производство. Точно таким же образом упрощенные правила воплощения планов, скажем, города, деревни или колхоза не годились в качестве набора инструкций для создания функционирующего социального порядка. Формальная схема паразитировала на неформальных процессах, создавать или поддерживать которые она сама не могла. Если же она подавляла эти неформальные процессы, это был провал: терпели неудачу те, для счастья которых был задуман этот проект, а в конечном счете и сами проектировщики тоже.
Многое в этой книге можно счесть направленным против империализма того высокого модерниста, который запланировал определенный социальный порядок. Я подчеркиваю здесь слово «империализм», потому что не выступаю против всякого бюрократического планирования или вообще против идеологии высокого модернизма. Я выступаю против имперского или гегемонического менталитета планирования, который исключает необходимую роль местного знания и умения.
Везде в книге я подчеркиваю роль практического знания, неформальных процессов и импровизации перед лицом живого непредсказуемого развития. В главах 4 и 5 я противопоставляю высокомодернистские взгляды и методы городских планировщиков и революционеров и их критиков, подчеркивая сложность и неоконченность любых процессов. В качестве типичных представителей высокого модернизма взяты Ле Корбюзье и Ленин, а Джейн Джекобс и Роза Люксембург представляют их убедительную критику. Главы 6 и 7 содержат отчет о советской коллективизации и танзанийской принудительной виллажизации, которые показывают, как схематичное авторитарное решение о производстве и социальном порядке неизбежно терпит неудачу, когда оно игнорирует ценное знание, воплощенное в местных методах. (Ранняя версия содержала анализ проекта «Управление ресурсами долины Теннесси», высокомодернистский эксперимент Соединенных Штатов, дедушку всех региональных проектов развития. Я вынужден был отставить этот материал в сторону, чтобы сократить эту все еще слишком длинную книгу.)
Наконец, в главе 9 я пытаюсь осмыслить природу практического знания и противопоставить его более формальному дедуктивному, эпистемическому знанию. Слово метис, восходящее к классической Греции и обозначающее знание, которое можно получить только из практического опыта, служит для пояснения того, что я имею в виду.
Здесь я должен также подтвердить мой долг авторам-анархистам (Кропоткин, Бакунин, Малатеста, Прудон), которые последовательно подчеркивают роль взаимности социального действия в создании социального порядка в противоположность обязательной иерархической координации. Их понимание термина «взаимность» покрывает некоторые, но не все смысловые оттенки, которые я хочу охватить понятием «метис».
Радикально упрощенные проекты социальной организации, кажется, подвержены такому же риску неудачи, как и упрощенные проекты естественной окружающей среды. Уязвимость монокультурных коммерческих лесов и генетически программируемая, механическая монокультурность подражает неудачам колхозов и спланированных городов. На этом уровне я рассматриваю жизнеспособность как социального, так и природного разнообразия, и особенно тщательно у ее пределов — чем в принципе, вероятно, ограничено наше знание сложного, функционирующего порядка. Я думаю, что вполне возможно обратить эту аргументацию против упрощения социальной науки. Но поскольку сам я уже ухватил больше, чем могу прожевать, я оставляю этот путь другим вместе с моим благословением.
Я отдаю себе отчет в том, что, пытаясь создать парадигму рассмотрения, рискую выказать гордость, в которой — и справедливо — обвинял высоких модернистов. Как только вы обработали линзы, которые изменяют ваши возможности видеть, вы испытываете большое искушение посмотреть на все остальное через те же самые очки. Я, однако, хочу заявить о своей невиновности по двум пунктам и думаю, что внимательное чтение докажет это. Первый пункт — обвинение в том, что я некритически восхищаюсь всем местным, традиционным и общепринятым. Я понимаю, что практическое знание, которое я описываю, часто трудно отделить от практик доминирования, монополии и исключения, которые оскорбляют современную либеральную чувствительность. Моя точка зрения состоит не в том, что практическое знание — продукт некоторого мифического эгалитарного состояния природы. Скорее я думаю, что формальные схемы порядка не работают без некоторых элементов практического знания, а как раз их-то они пытаются изгонять. Второе обвинение состоит в том, что моя аргументация является анархистской и направлена против государства как такового. Что ж, государство, как я вполне ясно показываю, является спорным учреждением, оно лежит в основе и наших свобод, и наших несвобод. Я показываю, что некоторые виды государств, которые руководствуются утопическими планами и авторитарным игнорированием ценностей, желаний и возражений их подданных, действительно являются смертельной угрозой человеческому благосостоянию. Если исключить эту ужасную, но ставшую слишком обычной ситуацию, мы всегда должны сами взвесить, насколько полезны вмешательства государства и какой вред они приносят.
<…>
Перевод с английского Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчаниновой